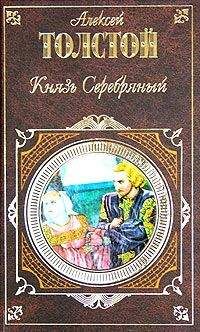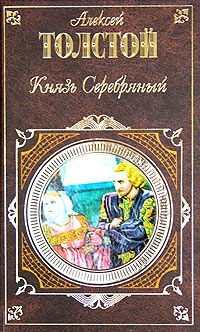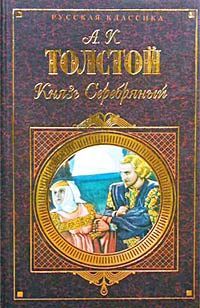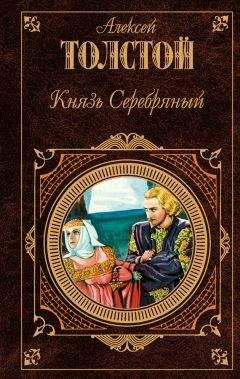Анатолий Бергер - Горесть неизреченная [сборник]
Мы познакомились. Его звали Саша, а фамилия Бояндин, как у многих пермяков в этих местах. Поехали. Мотоцикл сразу взял скорость, разбежались по краям ели да сосны, дорогу с маху уносило под колёса, ветер свистел в ушах. Я слегка держался за Сашины бока, разлёт наш мне нравился. Скоро повернули с грунтовой дороги на лесную, мотоцикл пошёл подпрыгивать да бодать то вправо, то влево среди колдобин и кочек, и быстроты поубавилось. Но до деревни было уже недалеко, уже маячил впереди скотный двор, широко окружённый низкой косой изгородью. Мы благополучно объехали юзом несколько луж, дно которых льдисто мутнело, но впереди была главная — во всю дорогу. Она пристыла, и по этой горбатистой белеси Саша и решил проехать, рвануть с ходу во всю мотоциклову силу. Едва мы чуть не на дыбах ворвались в середину, послабевший верх осел, и мы вместе с мотоциклом провалились в белёсую скользкость, и ноги мои по колено хватили ледяного внезапного холода. Саша был в сапогах и спрыгнул с седла чуть в сторону. Я с трудом вытянул ноги, со всхлипом расставшиеся с этой ванной, хорошо хоть не весь окунулся, да и сумка с документами цела осталась. Еле мы вырвали мотоцикл, отяжелевший от льдистой воды, на сухой лесной грунт, кое-как поехали дальше. Саша оправдывался: «Первый раз здесь засел, всегда проносило».
Наконец, замызганные, замёрзшие въехали в деревню. Сашина изба стояла на самом краю её, и огород сбегал вниз, к лесу. А передом изба повернулась к реке, которая бежала здесь, суживаясь и мелея и пропадая вдали. Саша закатил мотоцикл под навес, мы вошли в избу. Огромная печь, на полатях — шестки, увешанные тряпьем, широкая деревянная кровать, в углу — образ Спасителя, буфет — редкость в деревне. К нам подбежал малыш лет пяти, большеглазый, крутолобый. «Мой сынок», — сказал Саша. Худенькая, проворная старушка вынырнула словно из печи: «Где пропадал, до темноты бегаешь». — «Да мы в луже, что перед коровником, засели, обсушиться надо, — говорил Саша. — Вот человек страховать приехал, переночует у нас. Вешайте носки на печь», — посоветовал он мне. «Ой, да плита уж холодная и ужина-то нет», — приговаривала старушка. С кровати поглядывало на нас ещё одно маленькое существо. «А это кто, дочка младшая?» — спросил я. «Да, она сейчас болеет у нас, а то и песню споёт, и стихи расскажет, такая затейница», — сказала старушка. Девочка глядела тихо и жалобно. И мальчик внимательно и приветно также посматривал на меня. «Хорошие дети», — сказал я. «Мать вот в больнице, — ответил Саша, — скоро уж дома будет, соскучились они».
Мне хотелось что-то сделать для Саши. «Промокли мы, — сказал я, — может, возьмёте в магазине пол-литра, а то не простыть бы. Вот деньги — ладно?» — «Не надо ему пить, ну его», — возразила старушка. «Так видишь же, что ноги у нас мокрые, не будет нам вреда, если по стакану», — сказал Саша. «Вы не опасайтесь, — обратился я к Сашиной матери, — я вообще не пью, да и нельзя мне на службе, тут случай такой». — «Да я вижу, вы человек серьёзный, коли надо, то пусть сходит, Бог с ним». Саша уже исчез за дверью. «Красивая у вас икона, старая, видно», — обратился я к старушке. «Да, старая, старая, от матери досталась, а ей от бабки ещё, а молодые и не глядят на неё». — «Время такое», — сказал я. «Безбожное время, всё сами знают и не слушают меня, я маленькую у них нянчу, а после еду к старшему сыну в Тюхтяты, у него три года сына нянчила. Так и катаюсь всё. Меня здесь люди «легковушкой» зовут». — «Надо же, — засмеялся я. — Но вам с Сашей хорошо?» — «Больной он диабетом, в позапрошлый год с мотоцикла упал, побил себе всё. Каждый день на уколах да в больницу в Курагино ездит за инсулином. Там и дочь моя живет с мужиком. Саше пить-то вредно». — «А я и не знал», — испугался я. «Да ничего, разобойдётся. Вы, я вижу, человек хороший».
Вернулся Саша. «Ну что, обсушились немного? — спросил он. — Давайте, садитесь к столу, чем Бог послал». — «Не повредила бы вам водка», — сказал я. Саша глянул на мать: «Наговорила уже. Да ничего не будет, я сегодня колоться не стану, водка же частично заменяет». На столе появились солёные огурцы, сало, хлеб. Я достал колбасу из сумки. Старушка нам подавала. «А вы что ж?» — спросил я. «Я ела уже, на меня не глядите».
С печи спрыгнул серый с серебринкой, длинный и развалистый кот, медленно подошёл к нам. «А, Бусик, проснулся, наконец, — приветствовал его Саша, — сутками спит. Ленивей его не видел, мыши по нём бегают». — «Но сало-то услышал», — сказал я, бросив коту кусочек колбасы. Он, урча, стал грызть её. Мы выпили ещё по разу. «Вот и согрелись», — сказал я. «Да никогда я в этой луже не застревал, может, от тяжести, что двое, и провалился», — снова начал Саша. «Конечно, вдвоём-то тяжелей. Ничего, зато будет что вспомнить». — «А с вами хорошо ездить. Легко сидите, не боитесь, — проговорил вдруг Саша. — Вот шурин мой, так его клонит и туда и сюда, перепрыгается весь, неспокойно ему». Я хотел сказать Саше, что впервые в жизни сел на мотоцикл, но почёл это лишним. Водка вскоре была выпита, старушка убрала остатки закуски, пора было спать. Саша постелил мне на сундуке под иконой, сам он спал с дочкой на кровати, бабушка с внуком улеглись на печь.
Перед сном я вышел во двор. Огромное тёмное небо стояло над деревней, яркими пригоршнями полыхали на нём звёзды. Тишина раскинулась во всю ширь. В курятнике вдруг закопошились куры, послышалось приглушённое прикудахтывание, тут же умолкшее. Стайка словно в ответ задышала, затёрлась, но тоже на миг. Избы темнели, темно пропадал лес вдали. Я вернулся в комнату.
Утром я встал рано. Саша с детьми ещё спал, но старушка уже шуршала по избе и позвякивала ухватами и горшками. Я быстро собрался и пошёл по избам страховать. Деревня оказалась совсем невелика, урожай мой был скуден. Радовал только светлый чистый день. Запомнилась по-настоящему мне лишь высокая прямая седая старуха, которая просила застраховать дом. Рядом сгорел её сосед, он с горя на изменившую ему жену напился вдрызг и валялся среди стаканов и окурков уже под столом, когда один из окурков разгорелся, и от него пошло по всей избе. Дело было поздно, дом выгорел начисто, сам хозяин едва выбрался и отполз к чужой изгороди, благо ветра не было. Протрезвев, он убрался совсем из Петропавловки и не подавал вестей. А старухе теперь каждую ночь снилось пламя. «Да такое большое, — с испугом говорила она, — как забудусь, пламя шумит — беда! Хоть застраховать от греха». Пройдя ещё пару изб, я повернул назад. Вечером через Петропавловку шёл автобус на Курагино, у меня оставалось ещё часа три. Я вернулся к Саше. Он уже возился в столярке, малыш его бегал по двору, кругом разгуливали куры под началом петуха, из стайки слышалось хрюканье. «Вот столярничаю, — сказал Саша, — буфет видел в избе? Сам сделал». — «А где научился?» — спросил я Сашу (мы после вчерашней водки стали на «ты»). «Да нигде, меня отец научил, он столяр был, и дед столярничал ещё там, в Коми». — «Хорошо научили они тебя — буфет отличный», — сказал я. «Да я и людям делаю, пенсия-то маленькая, а жена в овощеводческой бригаде, там с трудоднями слабо. Пошли обедать». Я не отказался. На этот раз старушка сварила похлёбку на солонине, но сытную и острую. «Это я по-нашему, по-пермяцки, — ответила она мне на похвалу. — Молодые-то и забыли всё, и говорить-то не говорят, и писать не знают по-нашему. Вот письмо пришло оттуда, а они и прочесть не могут». Она вынула из божницы и показала мне письмо, мелкая колючая вязь которого сразу обвеяла меня чем-то далёким, загадочным и грустным.